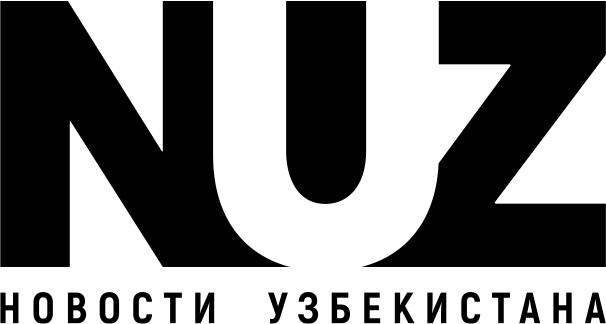Продолжение беседы с известным виолончелистом Израильского филармонического оркестра Феликсом Немировским
— Феликс Михайлович, вы много гастролируете, ездите по всему свету. Что скажете о Ташкенте музыкальном?
— Как это странно ни прозвучит, Ташкент на современной мировой музыкальной карте представлен очень солидно, начиная с Ефима Бронфмана, который уехал отсюда в возрасте 13 лет, когда я только поступил в школу Успенского — у нас с ним разница лет в шесть. Это мировая величина. Он блистает на всех сценах. Еще имена: из ташкентской семьи инженеров Бориса Гандельсмана и Ады Литвак-Журбиной вышли музыканты Юра Гандельсман — советский, израильский и американский альтист, работавший у нас в оркестре в Израиле, а сейчас профессор по классу альта в Музыкальном колледже Мичиганского университета в США, и Александр Журбин — советский и российский композитор, автор опер, балетов, мюзиклов и любимых многими эстрадных песен. Они родные братья, уроженцы Ташкента.
— А Феликс Янов-Яновский?
— Он композитор-флагман в Ташкенте, известен и за рубежом. Его сын Дмитрий тоже очень известный композитор; у него другой музыкальный язык, но содержание всякой музыки всегда об одном и том же — о любви, боли, страдании, радости и горе. Вечная музыка пишется на вечные темы. Можно назвать еще пианиста Алексея Султанова, к сожалению, его рано не стало. Композитора Полину Медюлянову и других композиторов, исполнителей, вокалистов и дирижёров.
— Вы сумели посетить концерты или учебные заведения, где учились музыке?
— Побывать в концертных залах и в консерватории не получилось, не знаю, что здесь сейчас происходит. Но рад, что школа Успенского работает, её уровень в своё время – до того, как я в ней учился и позже – соответствовал уровню самых лучших школ Союза. Теперь это республиканский лицей, я зашел в него — дети там светлые, значит, традиции сохраняются.
Главное в музыкальном образовании в Ташкенте – школа Успенского, это надо помнить. Ничего лучше не было. Я говорю о ней как о «кузнице кадров», если выразиться кондовым языком. Она поддерживается в очень хорошем состоянии, работает, дышит и в ней всё так, как должно быть. И дети в школе визуально хорошие. Они понесут полученный в школе настрой и дальше – в консерваторию, в профессию.
Хочу по этому поводу вспомнить об уникальном ташкентском музыканте — дирижёре Владимире Неймере, с дочкой которого мы учились в одном классе. Он настоящий профессионал, невероятно преданный своему делу, хороший, очень грамотный музыкант, замечательный, добрейший человек. За его преданность музыкальной педагогике все шляпу должны перед ним снять. Он работает с детьми, ставит их за дирижерский пульт — так находятся таланты. Талант, если он есть, моментально виден. Я не участвовал в таком действе, но к нам привозят маленьких детей, чтобы мы им аккомпанировали. Иногда бывает ерунда или глупость какая-то, но если это талант, безусловно, он сразу чувствуется, и это очень вдохновляет. Но фестиваля современной классической музыки «Ильхом-XX» в Ташкенте больше нет, а он был важным и серьезным явлением столичной музыкальной жизни.
— В столице в своё время были и музыкальные, и театральные критики. Теперь нередко об искусстве судят не специалисты — я ведь тоже не музыковед и не критик. Мнения бывают излишне завышены, нередки фактические неточности.
— С музыкальной критикой по роду своей деятельности сталкиваюсь мало. Природа критики, на мой взгляд, изначально непродуктивна. Критикует тот, кто сам ничего не умеет. Это если говорить о критиках. Но их надо отличать от музыкальных обозревателей. Я их уважаю, это люди, которые информируют потенциальную публику обо всём, что может быть интересно и достойно внимания.
— После таких оценок, с критиками вам лучше никогда не встречаться. Обзорных статей, к сожалению, у нас теперь практически не встречается – наверное, не осталось обозревателей, способных охватить картину музыкальной или театральной жизни. Давайте поговорим о публике. Имеет ли она право требовать, чтобы в искусстве всё было понятно? Мне кажется, художник свободен, и никто не смеет судить, что можно ему или нельзя. Исполнитель ведь тоже художник?
— Безусловно, исполнитель – художник, индивидуальность. Публику тоже трудно воспринимать как нечто целое – это индивидуальности. Человек может оценивать музыку или живопись только в личном контексте — подходит ему или нет то или иное произведение или явление в искусстве. Нравится – слушает, вот и всё. Музыка — очень личное пространство, её нельзя выхолащивать. Она для того и написана, чтобы в исполнительстве продолжать свою жизнь. Когда она написана – это как рождение. И с каждым исполнением рождается вновь. Потом появляется одна, другая традиция исполнительства. Это как множество детей.
— Если сравнивать исполнительскую манеру прошлого и современную, в чем вы видите перемены, есть ли совершенствование в технике?
— Инструментально – безусловно. Но я не люблю слова «техника». Техника – это автомобили. Нет, музыканты совершенствовались инструментально, то есть во владении инструментом. Есть прогресс во всем, в том числе и в исполнительстве. Лозунг века «Быстрее, выше, сильнее!» применим и в музыке. Но вместе с этим очарование и откровение в исполнительстве встречаются всё реже и реже. Музыкальное переживание, которого публика нашего поколения когда-то ждала, часто подменяется спринтерством и цирком.
— Нарочитый артистизм, эмоциональность, эффектные жесты, более того — откровенные наряды и эротичное оформление альбомов – нередко такие реплики слышу в адрес молодых исполнителей.


— Мне это не мешает, такие исполнители могут замечательно, потрясающе играть, лучше всех! Я играл с такой пианисткой, которая выходит на сцену в мини-юбке — Юджа Вонг (Yuja Wang) из Юго-Восточной Азии. Она великая, просто потрясающая. Я играл с нею трио — восхитительная пианистка! И другая, грузинская пианистка очень эротичного вида на сцене – Хатия Буниатишвили. Одно удовольствие играть с этими музыкантами, не имеет значения, как они выглядят. Что касается эротического элемента в оформлении альбомов – это не на потребу рынка, как считают многие, это индивидуальность исполнителей. Рынок тоже с опаской и подозрением реагирует на такие вызовы, но это не имеет никакого значения. Придите и послушайте этих исполнителей, а если нет возможности посетить концерт, в ютубе можно найти всё, что угодно, и по записям можно получить представление. У каждого исполнителя и слушателя свой вкус.
— Нужна ли подготовленность слушателя к восприятию классической музыки или, как считают некоторые, истинное искусство оценит любой? Учат ли воспринимать музыку в Израиле?
— Не знаю, как насчёт подготовленности, но, прежде всего, необходимо желание слушать музыку такого рода. Семья обязана обращать внимание ребенка на культуру и искусство.
Расскажу, что делается в Израиле, Европе, Америке. Лет 15 назад у нас были юношеские концерты, и на них, со временем, вместо детей, которых мы хотели у себя видеть, стали приходить только бабушки. Сегодня в Израиле по инициативе нашего оркестра работает гигантский проект по названию «Ключ», и общеобразовательная музыкальная программа тесно связана с нашей деятельностью. Работает проект следующим образом: оркестр делится на маленькие группы, произведения аранжируются для этих групп или ансамблей, причём, любые. Небольшие ансамбли играют эти произведения в классах, после чего дети слушают мини-концерт в зале, где это же произведение будет исполнено чуть большим составом, — и лишь затем мы приглашаем школьников на концерт большого симфонического оркестра. Эта работа проводится в течение всего сезона. Таким образом, мы, подобно филармонии, готовим себе публику. Это инициатива нашего оркестра.
— Какова программа концертов, помогает ли она полюбить классику?
— Это популярная классическая музыка — «Маленькая ночная серенада» и «Волшебная флейта» Моцарта, «Вечерняя серенада» Шуберта, «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Чайковского — то есть доступная музыка, которую дети слышат даже в телефонных рингтонах. Есть семьи, где дети с молочных зубов слышат классику, но к концертам и симфониям Брамса или Шостаковича их нужно подготовить. Если первым услышанным в зале концертом будет симфония № 5 Шостаковича, то это будет последний для ребёнка концерт. Поэтому у нас есть серии программ легкой классической музыки и филармонической классики (филоклассики) – то есть музыки второй ступени сложности. В таких концертах мы играем очень качественную, но доступную, любимую всеми музыку.
— Есть у дирижеров две позиции: предназначение симфонического оркестра – это исполнение классики , серьезной и высокой музыки; и вторая, связанная с популяризацией классики.
— Мы разговаривали в Ташкенте на эту тему с Дмитрием Янов-Яновским, и он процитировал французского композитора и дирижёра Пьера Булеза: есть музей, а есть галерея. В музее мы видим то, что вечно и нерушимо, это классика, то есть большой симфонический оркестр. А в галерее экспозиция меняется чаще. Обе эти позиции, на мой взгляд, имеют право на существование – нужно и то и другое. Посетив галерею и насладившись чем-то, пробудив интерес к искусству, ты обязательно пойдешь в музей.
— Что для вас музыка? Не раз слышала из уст музыкантов искреннее, но шаблонное: «Это вся моя жизнь».
— Музыка – это любимая профессия. Я ничего другого не умею. И просто лень менять на что-либо, тем более, что я получаю удовольствие от своей работы. Если углубляться и говорить высокопарными фразами, получится тот самый, приведенный вами ответ: «Это вся моя жизнь» — и это абсолютно честно. Это моя профессия, которую я люблю.
Мне в жизни очень повезло. Я успел застать и предыдущее поколение дирижеров – самое лучшее, которое только могло быть. Играл с венгерским, можно назвать его и английским дирижёром Георгом Шолти, американцем Джеймсом Ливайном, всемирно известным американским дирижёром, скрипачом и композитором Лорином Маазелем, немецким маэстро Куртом Мазуром. Продолжаю сотрудничать с современными маэстро. Очень люблю играть с блестящим дирижёром, в прошлом художественным руководителем «Ла Скала», пожизненным почетным директором Римской оперы и руководителем Чикагского симфонического оркестра Риккардо Мути. Играл с немецкими дирижёрами Кристофом фон Донаньи и Вольфгангом Заваллишем.
Главный дирижер нашего оркестра и мой музыкальный отец Зубин Мета — признанный мастер симфонических полотен, руке которого повиновались лучшие оркестры мира – я счастлив играть под его управлением. Невероятно люблю играть с российскими дирижерами Валерием Гергиевым – он совершенно потрясающий дирижёр, Юрием Темиркановым. Из сегодняшних молодых дирижеров — с Владимиром Юровским, Василием Петренко и выдающимся Кириллом Петренко – это бриллиант дирижирования, который совсем недавно был назначен главным дирижером Берлинского филармонического оркестра.
Мне в жизни невероятно повезло. Я играл с Ростроповичем, из совсем молодых дирижеров – с Густаво Дудамель из Венесуэлы. Играл и с израильским дирижёром Даниэлем Баренбоймом, но из-за его политических взглядов в последнее время стараюсь с ним не контактировать. У музыканта нет личностного контакта с дирижером, но дирижёр проецирует свою энергетику. Энергетика Баренбойма мне не подходит.
— Отражает ли музыка время? Получается ли это у современных композиторов?
— Музыка, которая пишется сейчас, безусловно, отражает наше время. Я участвовал в фестивалях в Ташкенте, это был особенный фестиваль, полностью посвященный современной музыке, в мире таких фестивалей очень мало. Современную музыку непросто «продать». Вы же понимаете, что музыка — это еще и рынок. Мы живём в социуме, и не мы ему, а он нам диктует условия, поэтому нас касаются все проблемы – и материальные, и духовные. Современных сочинений исполняется недостаточно — авангард всегда воспринимался рынком в штыки — но они двигают музыку вперед, развивают ее. Невозможно играть только Моцарта, Гайдна, Бетховена, Брамса или даже Прокофьева и Шостаковича.
— Тем не менее, два последних — едва ли не самые исполняемые из современных композиторов?
— Шостакович вообще, на мой взгляд, — этапная музыка. Она замечательная, глубочайшая и серьёзная, но она этапная, и для меня, в принципе, уже не наша. После того периода так много произошло, что иногда эта музыка говорит мне меньше, чем она говорила музыканту и слушателю когда-то, хотя я люблю играть Шостаковича. Тогда жизнь была такая же, как его музыка, она полностью соответствовала той жизни. Моцарт или Бетховен или какая-то ультрасовременная музыка сейчас гораздо больше зажигают музыкантов. Может, я святотатствую, но, по-моему, музыка Шостаковича – не вечная. Это чисто мое ощущение. Поэтому я играю Шостаковича все меньше и меньше. А Прокофьев остается для меня современником, более живым. Может, это не зависит от музыки, а зависит от моего внутреннего состояния, усталости от того, что было и нежелания с ним соприкасаться. Музыка была очень политизирована и, безусловно, она была нужна, чтобы рассказать людям о том, что происходило. Но, на мой взгляд, сегодня, когда так много произошло и переменилось в мире, всё это не так уж и хорошо.
— А в том, что касается классической музыки, как исполняется, на ваш взгляд, она?
— Недостаточно хорошо, и это уже связано с тенденцией самих исполнителей. Меня не радует, что переживания затушёвываются другими, чуть-чуть подсушенными аспектами, а я больше за перфектное. К большому сожалению, музыка становится средством зарабатывания денег, и в эту сферу попадают не столько индивидуальности и таланты, сколько достаточно высокого уровня профессионалы- служащие. И это мне мешает. Я часто сижу в комиссиях по приему и в музыкальной академии, и в оркестре на конкурсах, и вижу, как изменился контингент. Нет огня, к сожалению. Я не могу сказать, что музыка умирает. Нет, но она меняется, она становится менее вдохновенной… из-за самих музыкантов.
Плеяды, которая была в моей юности и ранее, начиная с золотого века — Яши Хейфеца, Антона Рубинштейна, Миши Эльмана, Ефрема Цимбалиста, Мирона Полякина — уже нет, закончилась она на Давиде Ойстрахе и Олеге Кагане. Мы были достаточно ограничены в мировой информации. Но и имён, равных плеяде нашего времени — это Наталья Гутман, Олег Коган, Виктор Третьяков, Владимир Спиваков, Юрий Башмет – сегодня нет. Мне трудно назвать ряд музыкантов, которыми могу восхититься, разве два-три имени, но чтобы, как прежде, десятки – нет.
— Как оцениваете в этом ряду себя?
— Я хороший профессиональный музыкант, который любит музыку. Причисляю себя к предыдущему поколению, все еще горящему и любящему искусство и не считающему музыку средством заработка. Я на хорошем уровне, играю с очень хорошими музыкантами, у меня бывают шансы, и хотя мое имя не в топ-карьерном списке, я с ними в контакте – и педагогически, и инструментально. Сотрудничаю с ними, удается с ними играть. В свое время играл с Максимом Венгеровым; довольно часто сотрудничаю с Юлианом Рахлиным — австрийским скрипачом и альтистом, выходцем из СССР; Ефимом Дорфманом – есть такой известный виолончелист; скрипачом Гилом Шахамом – всё это имена, которые действительно звучат очень высоко. Я с ними сотрудничаю – и это шансы, которые я использую.
— Профессия музыканта – это успешная профессия? Почему родители так рьяно ведут детей в музыкальные школы?
— Нет, это очень тяжелая и далеко не всегда успешная стезя. А в музыкальные школы детей приводят, потому что это развивает душу. Но профессионально это невероятно сложно. Это амбиции, борьба, конкуренция – это невероятно, очень тяжело, очень! Никому не советую.
— Но вы в этой конкурентной борьбе выстояли и не потеряли жизнелюбия, добились хороших позиций в карьерном плане. И говорите на языке музыки, — языке, на котором, как считается, боги говорят с людьми.
— Не знаю, как насчет богов, но музыка — язык универсальный. Я не говорю по-узбекски, а человек, живущий здесь, не говорит на моем языке, но музыку мы с ним поймём оба. Музыка на сегодняшний день, на мой взгляд, поддерживает чистоту души.
— Что вы пожелаете нам, для кого Узбекистан не только родина, но и дом?
— Мое главное пожелание – чтобы не было антагонизма между людьми разных наций и веры, и они будут рождать детей – талантливых во всех областях, ярких, способных. Желаю сохранить в Узбекистане интернационализм. Он – ключ к процветанию нации.
Тамара САНАЕВА.
Фото автора и из интернета.