Весть о смерти Иосифа Бродского достигла Венеции через сутки – 29 января. В это время старый друг поэта граф Джироламо Марчелло наблюдал из окна родового палаццо как горело здание театра La Fenice.
– Подробности этой истории я узнала сначала от нашего приятеля Питера, – вспоминает Татьяна Жаковская, – а потом прочитала в книжке «Город падающих ангелов» Джона Берендта…. Из этой же книжки узнала, что Бродский писал «Набережную Неисцелимых» во дворце графа Джироламо Марчелло – в минуте ходьбы от Ла Фениче.
«Венеция появляется в жизни Бродского гораздо раньше, чем он сам материализуется на ступенях венецианского вокзала Санта Лючия. В посвященном городу эссе поэт вспоминает различные мелочи, зародившие в нем интерес к городу».«Потом другой друг, еще здравствующий, принес растрепанный номер журнала «Лайф» с потрясающим цветным снимком Сан-Марко в снегу. Немного спустя девушка, за которой я ухаживал, подарила на день рождения набор открыток с рисунками сепией, сложенный гармошкой, который ее бабушка вывезла из дореволюционного медового месяца в Венеции, и я корпел над ними с лупой. Потом моя мать достала бог знает откуда квадратик дешевого гобелена, просто лоскут с вышитым Palazzo Ducale, прикрывший валик на моем диване – сократив тем самым историю Республики до моих габаритов. Запишите сюда же маленькую медную гондолу, которую отец купил в Китае», (Набережная Неисцелимых).
Правда, гондола оказалась обыкновенной китайской джонкой, которую привез отец поэта, военный фотокорреспондент Александр Бродский.
А друг, упоминаемый Бродским, – Евгений Рейн, в 1996 году он подробно опишет эпизод с журналом в стихах:
***
В Летнем саду над Карпиевым прудом в холодном мае
мы покуривали «Кэмел» с оборванным фильтром,
ничего не ведая, не понимая
из наплывающего в грядущем эфирном.
Я принес старый «Лайф» без последней страницы
с фотографиями Венеции под рождественским снегом,
и неведомая, что корень из минус единицы,
воплощалась Венеция зрительным эхом.
Глядя на Сан-Марко и Санта-Мария делла Салюта,
на крылатого льва, на аркаду «Флориана»
через изморозь, сырость и позолоту
в матовой сетке журнального дурмана,
сказал «никогда», ты сказал «отчего же?»,
и, возможно, Фортуна отметила знак вопроса.
Ибо «никогда» никуда негоже —
не дави на тормоз, крути колеса.
Поворачивался век, точно линкор в океане,
но сигнальщик на мостике еще не взмахнул флажками,
над двумя городами в лагуне, в стакане
поднимался уровень медленными глотками.
И пока покачивался дымок «Верблюда»
и желтел ампир, багровел Инженерный,
по грошам накапливалась валюта
и засчитывался срок ежедневный.
И журнал перелистанный отложив на скамейке,
отворяя калитку, судьбу и границу,
мы забыли, что нету рубля без копейки,
что мы видели все без последней страницы.
(Е. Рейн.)
Поэт и журналист А.Приймак пишет: «В 1972 году Бродский впервые посещает Венецию. Конечно же, на Рождество. Поэт прибыл в Венецию один. Единственной, кого он знал в городе, была графиня Мария Джузеппина Дориа де Дзулиани. Именно она выбрала пансион «Аккадемия», увековеченный в стихотворении «Лагуна».
Из воспоминаний графини: «Он хотел, чтобы я сняла ему палаццо! Не понимаю, откуда был такой размах у советского человека? Но найти для него палаццо было невозможно. Я сняла ему весьма трендовый тогда пансион, который совсем не пах мочой, как это упомянуто в книге».
Судя по всему, палаццо – идея фикс Бродского, зародившаяся еще задолго до того, как поездка в Венецию стала возможной. Если верить самому поэту, то все началось на 28-м году его жизни:«И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить и на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и не сходя с места вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин», (Набережная Неисцелимых).
В январе он пишет стихотворение «Лагуна», первая попытка изобразить Венецию в стихах.
I
Три старухи с вязаньем в глубоких креслах
толкуют в холле о муках крестных;
пансион «Аккадемиа» вместе со
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот
телевизора; сунув гроссбух под локоть,
клерк поворачивает колесо.
II
И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.
III
Венецийских церквей, как сервизов чайных,
слышен звон в коробке из-под случайных
жизней. Бронзовый осьминог
люстры в трельяже, заросшем ряской,
лижет набрякший слезами, лаской,
грязными снами сырой станок.
IV
Адриатика ночью восточным ветром
канал наполняет, как ванну, с верхом,
лодки качает, как люльки; фиш,
а не вол в изголовье встает ночами,
и звезда морская в окне лучами
штору шевелит, покуда спишь.
V
Так и будем жить, заливая мертвой
водой стеклянной графина мокрый
пламень граппы, кромсая леща, а не
птицу-гуся, чтобы нас насытил
предок хордовый Твой, Спаситель,
зимней ночью в сырой стране.
VI
Рождество без снега, шаров и ели,
у моря, стесненного картой в теле;
створку моллюска пустив ко дну,
пряча лицо, но спиной пленяя,
Время выходит из волн, меняя
стрелку на башне – ее одну.
VII
Тонущий город, где твердый разум
внезапно становится мокрым глазом,
где сфинксов северных южный брат,
знающий грамоте лев крылатый,
книгу захлопнув, не крикнет «ратуй!»,
в плеске зеркал захлебнуться рад.
VIII
Гондолу бьет о гнилые сваи.
Звук отрицает себя, слова и
слух; а также державу ту,
где руки тянутся хвойным лесом
перед мелким, но хищным бесом
и слюну леденит во рту.
IX
Скрестим же с левой, вобравшей когти,
правую лапу, согнувши в локте;
жест получим, похожий на
молот в серпе, – и, как чорт Солохе,
храбро покажем его эпохе,
принявшей образ дурного сна.
X
Тело в плаще обживает сферы,
где у Софии, Надежды, Веры
и Любви нет грядущего, но всегда
есть настоящее, сколь бы горек
не был вкус поцелуев эбре\’ и гоек,
и города, где стопа следа
XI
не оставляет – как челн на глади
водной, любое пространство сзади,
взятое в цифрах, сводя к нулю –
не оставляет следов глубоких
на площадях, как «прощай» широких,
в улицах узких, как звук «люблю».
XII
Шпили, колонны, резьба, лепнина
арок, мостов и дворцов; взгляни на-
верх: увидишь улыбку льва
на охваченной ветров, как платьем, башне,
несокрушимой, как злак вне пашни,
с поясом времени вместо рва.
XIII
Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым
лицом, сравнимым во тьме со снятым
с безымянного пальца кольцом, грызя
ноготь, смотрит, объят покоем,
в то «никуда», задержаться в коем
мысли можно, зрачку – нельзя.
XIV
Там, за нигде, за его пределом
– черным, бесцветным, возможно, белым –
есть какая-то вещь, предмет.
Может быть, тело. В эпоху тренья
скорость света есть скорость зренья;
даже тогда, когда света нет.
В 1974 Бродский вновь возвращается в Венецию в декабре. 31-го числа он пишет «Хотя бесчувственному телу». Финальный фрагмент этого послания, несмотря на его шутливый тон, позже сыграет роль в спорах о том, где хоронить поэта:
…Хотя бесчувственному телу
равно повсюду истлевать,
лишенное родимой глины,
оно в аллювии долины
ломбардской гнить не прочь. Понеже
свой континент и черви те же.
Стравинский спит на Сан-Микеле,
сняв исторический берет…
К моменту написания «Набережной» Бродский побывал в Венеции 17 раз. На пресс-конференции в Финляндии (1995 год), на вопрос журналиста о появлении венецианских эссе, Бродский сказал: «Исходный импульс был простой. В Венеции существует организация, которая называется Консорцио Венеция Нуова. Она занимается предохранением Венеции от наводнений. Лет шесть-семь назад люди из этой организации попросили меня написать для них эссе о Венеции. Никаких ограничений, ни в смысле содержания, ни в смысле объема, мне поставлено не было. Единственное ограничение, которое существовало, – сроки: мне было отпущено два месяца. Они сказали, что заплатят деньги. Это и было импульсом. У меня было два месяца, я написал эту книжку. К сожалению, мне пришлось остановиться тогда, когда срок истек. Я бы с удовольствием писал её и по сей день».
В венецианском творчестве Бродского книга занимает промежуточное место – до неё были написаны «Лагуна» и «Венецианские строфы», после неё – «Посвящается Джироламо Марчелло», «Лидо», «С натуры»…
В 1995 году Бродский вновь в Венеции. 28-го июля он случайно сталкивается в ресторане с графиней де Дзулиани. Они не виделись 23 года, и это их последняя встреча.
«Субботним вечером 27 января 1996 года в Нью-Йорке Бродский готовился ехать в Саут-Хэдли и собрал в портфель рукописи и книги, чтобы назавтра взять с собой. В понедельник начинался весенний семестр. Пожелав жене спокойной ночи, Бродский сказал, что ему нужно ещё поработать, и поднялся к себе в кабинет. Утром, на полу в кабинете его и обнаружила жена. Бродский был полностью одет. На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга – двуязычное издание греческих эпиграмм. Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно – инфаркт, поэт умер в ночь на 28 января 1996 года.
1 февраля в Епископальной приходской церкви Благодати в Бруклин Хайтс неподалеку от дома Бродского, прошло отпевание. На следующий день состоялось временное захоронение: тело в гробу, обитом металлом, поместили в склеп на кладбище при храме Св. Троицы на берегу Гудзона, где оно хранилось до 21 июня 1997 года.
В тот же день двадцать лет назад останки Иосифа Бродского были перевезены в Венецию и захоронены на кладбище Сан-Микеле.»
А надгробие сделал хороший знакомый Иосифа, художник Владимир Радунский. Получилось скромное, изящное, в античном стиле надгробие с короткой надписью на лицевой стороне на русском и английском: «Иосиф Бродский Joseph Brodsky 24 мая 1940 г. – 28 января 1996 г.»
Правда, на обратной стороне есть еще одна надпись по латыни – цитата из его любимого Проперция: Letum non omnia finit – со смертью все не кончается.
М. ГАР
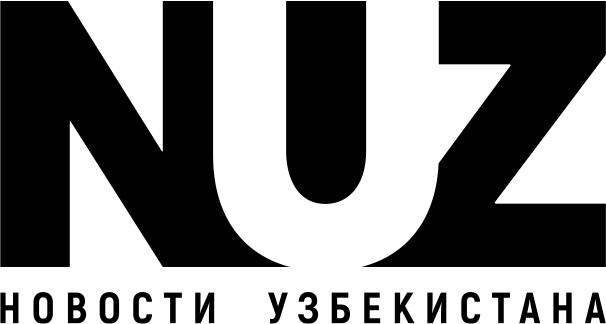



Изящное эссе о любимом поэте!