В 1948 году в Москве открылись коммерческие магазины. Знаменитый гастроном № 1 по улице Горького, который испокон веку москвичи звали Елисеевским, засиял люстрами и необозримыми зеркалами витрины. Из его недр на улицу струились пленительнейшие запахи всевозможных копченостей, пряностей, головокружительные ароматы муската, ванилина, кофе… После голодных, скудных пайков военной поры это казалось сном, чудом. Народ устремился в сиявший хрустальными люстрами и зеркалами витрины Елисеевский, как на былинный пир. Но цены были столь же головокружительны, сколь и запахи… Поэтому, вдоволь насытив взоры зрелищем роскошных витрин со снедью, москвичи покидали гастроном с небольшими пакетиками, где было чуть-чуть того, чуть-чуть этого…
…Фаина Георгиевна и я стояли в очереди за сыром. Подойдя к продавцу – очень почтенному, седому, похожему на метрдотеля (москвичи его знали и побаивались его высокомерного педантизма и гастрономической эрудиции), Фаина Георгиевна вдруг произнесла жеманно:
– Двести граммов лимбургского.
И, кокетливо заулыбавшись, процитировала продавцу строки из «Онегина»:
– Меж сыром лимбургским живым И ананасом золотым...
Продавец, сохраняя почтительность и кладя на прилавок взвешенный сыр, тем не менее поглядел на Фаину в упор и, отчетливо произнося слова, не без раздражения заметил:
– Всякий всегда твердит эти строки, а что выше и ниже их написано – не знает!
И он, подтянувшись, громко, чтоб слышала вся очередь, процитировал:
– Пред ним rost-beef окровавленный И трюфли – роскошь юных лет, Французской кухни лучший цвет...
Фаина Георгиевна была поражена, впрочем, как и все стоявшие в очереди. Вдруг в ее глазах вспыхнуло озорство. Она приняла вызов…
Продавец продолжал:
– И Страсбурга пирог нетленный Меж сыром лимбургским живым И ананасом золотым...
И тут, прервав продавца, возвысив голос, Фаина продолжила торжествующе:
– Еще бокалов жажда просит Залить горячий жир котлет, Но звон брегета им доносит, Что новый начался балет...
И, уходя с поля боя победителем, потянулась за сыром. Суровый продавец, мгновение тому назад окинувший нас высокомерно-презрительным взглядом, добро улыбнулся и почтительно поцеловал руку Фаины Георгиевны, забиравшую с высокого прилавка очень небольшой сверток с воспетым Пушкиным сыром.
Она вся светилась озорством и радостью. Ведь это была столь любимая ею игра – плод внезапного вдохновения.

Путь к дому был недалек, обе мы жили в те годы в Старо-Пименовском переулке. Фаина Георгиевна была обладательницей одной комнаты в трехкомнатной секции, остальную часть квартиры занимали две сестры – дамы чопорные, педантичные, которые нередко бывали шокированы стилем жизни Раневской, ее «экстравагантностью», как они выражались. Впрочем, жизнь в квартире была вполне мирной.
Фаина Георгиевна радовалась своему жилью; до этого многие годы она жила с семьей своей названой матери – старой актрисы Павлы Леонтьевны Вульф, сыгравшей огромную роль в актерской судьбе Раневской.
О получении комнаты – собственной! – было сообщено друзьям… Горячее участие в ее оформлении принял нежно любимый Фаиной Георгиевной Осип Наумович Абдулов.
Из кладовок и чердаков добрых старых друзей была свезена отслужившая мебель – потертая, но достаточно еще добротная. Так появились платяной и книжный шкафы; диван, довольно большой, но с торчащими пружинами; тумбочка, кресло, стулья, стол. Оглядев все это достояние, Осип Наумович был несколько смущен разномастностью и стилевым разнообразием добытого. Но тут мелькнула блестящая идея: объединить все это сможет лишь цветовое решение! И вот в доме появились банки с белой краской. Осип Наумович, как заправский маляр, пристроил на шее на бечевке консервную банку с краской, вооружился кистями и, насвистывая какую-то бравурную мелодию, принялся за работу. Прошло несколько дней – и комната Раневской приобрела вид приемного покоя… Все было белое, удручающе белое. И стена… огромная, пустая.
«Нет ли у тебя ковра?»
Ковра не было. И тут снова помогли друзья. И фотографии, заключенные в рамки, украсили и согрели новую обитель Фаины Георгиевны.
На стене появился снимок Любови Петровны Орловой, сделанный около одной из химер в Париже. Фотография Верико Анджапаридзе, чем-то напоминавшая мне знаменитый эскиз головы Христа, сделанный Леонардо да Винчи к картине «Тайная вечеря». На вошедших глядели Василий Иванович Качалов, Борис Леонидович Пастернак. На фотографии Качалова было написано обращение:
Пойдем-ка, покурим, Фаина, Пока не увидела Нина.
Надпись, которую сделал на своей фотографии Пастернак, была торжественна: «Фаине – самому искусству».
…Мы часто ужинали вместе. Зимние вечера долги и тихи. Чуть улыбаясь, прищуря глаза и глядя куда-то, скорее всего в даль минувшего, она говорит насмешливо, улыбаясь наивности этого минувшего:
– Мой отец был состоятельным человеком… То ли банкиром, то ли коммерсантом. Жили мы достаточно богато. Нас было двое детей: я и брат. Брат носил темные очки, длинные волосы. Он был так называемым «легальным марксистом»… От него я получила первые сведения о классовой борьбе и прибавочной стоимости.
Однажды он пришел ко мне в комнату… У меня было много кукол. Он сказал, что все эти куклы, да и вообще все, что у меня есть, – украдено у детей рабочих. И тут он, используя все, что было в доме, как наглядное пособие, вновь втолковал мне, что такое прибавочная стоимость.
В заключение он назвал нашего отца эксплуататором и вором.
Это меня потрясло. Несколько дней я ходила потерянная, все мои представления о доме, об отце, о нашей семье рушились. Я искала выход. Наконец, отдав всех моих кукол каким-то детям на улице, я ушла из дома. Работала по найму у модистки, разносила шляпки в коробках заказчицам.
Моей мечтой было стать артисткой.
Я, как видите, достигла этого – но весьма нелегко…


…Конец сороковых был тревожным временем. Зимними долгими вечерами мы ходили либо на спектакли, либо к друзьям, или допоздна засиживались за дружескими беседами в ресторане ВТО. В ту пору там царила «мхатовская обстановка».
В один из таких вечеров мы говорили и о театре, и об актерах, и о том, как незаметно, исподтишка приходит старость.
«О том, что я начала стареть, мне сказали люди со стороны. Я сама этого не почувствовала. Или подсознательно не хотела замечать…
Я играла, снималась, разъезжала. У меня была любовь… Жил «он» в Ленинграде, и я, как только выдавались свободные дни, мчалась к нему на «Стреле». Однажды одна из моих приятельниц привезла мне из-за границы наимоднейшую шляпку. Очень она мне шла, очень. Забежала я к косметичке, сделала «макьяж» и, нарядившись, взяла билет до Ленинграда. Я любила, я ехала на свидание. Во мне все пело… Вагон сиял чистотой, все сверкало. По мягкому ковру я вошла в купе. Сняв пальто, увидела себя в зеркале… Вроде бы беспристрастным взглядом оценила свою внешность: шляпка хороша, очень идет, лицо – ну, есть морщины, но немного. Подумала: «Ну, Фаина, еще пару лет ты протянешь…».
Вошел проводник, взял у меня билет, и я попросила его принести стакан крепкого чаю. Наконец поезд тронулся, и вдруг я услышала голос проводника. Он беседовал со своим напарником о чем-то, потом вдруг громко, словно вспомнив, сказал ему: «Слушай, там в купе старуха чай просила, отнеси ей…».
Это он сказал обо мне. Кроме меня, в почти пустом вагоне ни одной женщины не было. Да и в купе я была одна.
«Старуха… Чай просила…»
Всю ночь я не сомкнула глаз. Свидание не состоялось. Тем же поездом я вернулась в Москву.
Так вот ко мне подкралась старость…»


…Прошло с той поры сорок пять лет, но и сейчас, проходя по Хорезмской, мимо 50-й школы, где был когда-то госпиталь, я с грустью смотрю на противоположную сторону… Так же стоят обнесенные изгородью старые строения. И вновь передо мной возникают фигуры двух высоких женщин, идущих медленно, беседующих вполголоса, доверительно склонив друг к другу головы… Жизнь подарила мне бесценную дружбу с одной из них – Фаиной Раневской.
На первом фото – интерьер гастронома «Елисеевский», сохранившийся почти неизменным с дореволюционных времен.
Публикацию подготовила Лейла Шахназарова.
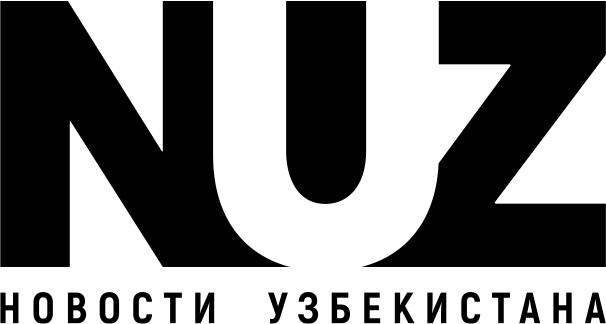

Большое спасибо Лейле Шахназаровой. Все части прочла с удовольствием