…И только старые дома еще немного
Напоминают нам о том, что жизнь – от Бога.
Хоть предназначены на слом и прячут раны…
И словно флаг над кораблем, стоит чинара.
Сергей Гордин
Это всем известно, это неоспоримо и неизбежно. Всё, что сегодня живет, дышит, любит, – обречено однажды исчезнуть под темными водами безжалостной и неостановимой реки Времени.
Вернее… было бы обречено. Если бы не катила неустанно ей навстречу свои воды другая река – река Памяти.
И, знаете, с некоторых пор мне думается: есть в Ташкенте человек, в чьем сердце эта великая река берет один из своих истоков.
Ты приходишь домой –
И прогнившие доски скрипят.
И какой же он маленький,
Этот родительский домик.
И какой же заросший
За крайним окном палисад,
И какой же смешной
Над тетрадкой склоненный ребенок.
…Как в воде ледяной,
Ты наотмашь вонзаешь иглу,
Чтобы мышцу разжать, –
Протыкаешь до боли, до дрожи…
Вот последняя дверь.
Остов старой кровати в углу.
Света луч на стене…
Голос мамы чуть слышный:
«Сережа?..»
«С раннего детства меня, из лучших побуждений, как могли, отучали от двух вещей: леворукости и странного стремления излагать свои мысли в рифму…»
Конечно, не отучили: Сергей Гордин остался левшой, а поэтом будет до последнего вздоха. Не потому, что «излагает свои мысли в рифму» – как раз рифмы у него зачастую уязвимы (зато как поэтичны обычные тг-сообщения!). И не потому, что стихи он пишет постоянно, когда позволяет физическое здоровье, и слагает их мысленно, когда порой не в силах сочиненные строчки записать, – можно, как известно, быть поэтом, и не создав ни одной стихотворной строки.
Случай Сергея Гордина – по крайней мере для меня – уникален по другой причине.
Ташкент никогда не был обделен великолепными поэтами – от Александра Файнберга и Нины Демази до Баха Ахмедова и Вики Осадченко. Блистательное их творчество в разные времена для нескольких поколений звучало как Голос города. Но когда я искала эпиграф для своей первой книги – о прежнем Ташкенте, его уходящей культуре, о людях, много десятилетий формировавших здесь духовное пространство, – те единственные, необходимые мне строчки нашлись лишь у одного автора. Потому что стихи Сергея Гордина – это Память города.
Послевоенное кино
Мы в парке вечером смотрели.
С дефектом было полотно,
Да и динамики хрипели.
Виталик, что потом замерз,
Бобины ставил вперемешку,
Но это – коль хватил лишка,
На миг нырнув за занавеску.
Теперь бобины у меня, –
Мы были с ним тогда соседи.
На месте домика его –
Хоромы в мраморе и меди.
Но сердце помнит все равно
И вальсы Штрауса, и Дитрих,
Фильм Куросавы о дзюдо,
Кинотеатр в опавших листьях.
Ура! – повержен супостат,
И войн теперь уже не будет,
И больше под снарядный град
Не попадут дома и люди!..
…И если б знали мы тогда,
Представить если бы умели,
Что ПРЕД-военное кино
Мы после той войны смотрели…
Многие строчки Сергея Гордина в плане поэтической техники, вероятно, далеки от совершенства. «Техника», «техничность» – эти понятия вообще плохо вяжутся с природой его дара. Дара, который, как мне кажется, мы с ним трактуем немного по-разному.
Сказано: «Поэты, очи долу опустив, свободно видят вдаль перед собою». Здесь же – нечто совсем особенное: способность поэта видеть не вдаль, но – вспять. Душа, обращенная зрачками в прожитое и только в него. Свойство, которое – не знаю с кем и сравнить… В любой строке Сергея Гордина живет город, которого уже нет. Который мы, заставшие Ташкент 70-х, 80-х, 90-х, – можем только помнить. Но ведь это очень тяжело – все время помнить. Радостно или грустно, но мы живем сегодня и идем за сиюминутной, каждодневной жизнью. А может быть, это удается и потому, что есть человек, принявший на себя этот великодушный и тягостный долг – помнить за нас?.. Любой ценой, изо всех сил, каждым своим стихотворением удерживать тот, неостановимо уплывающий, бесследно исчезающий город нашей юности, нашей любви, нашего зенита, – город нашего времени? Попытка, столь же благородная, сколь и обреченная. Но именно благодаря этому благородству и этой обреченности – возможно, стихи Гордина нельзя судить обычными литературными мерками. Таков, в какой-то мере, был феномен творчества Асадова: у одних – пренебрежительная снисходительность – мол, наивно, слезливо, сентиментально. У других, несравненно более многочисленных, – огромная любовь и горячая благодарность за понимание, душевное сопереживание, проникновение прямо в душу… То же с «феноменом Гордина»: любое, даже не слишком сильное в художественном плане его стихотворение мгновенно порождает множество растроганных, благодарных, восторженных откликов, что-то по-настоящему важное бередя в душах людей.
…А он вышел. А он выпил,
А он трубочку набил,
Рядом положил трехрядку
И неспешно закурил.
Там за окнами плясали,
Свет горел, и кактус цвел,
И, подвыпивши, орали
Музыке наперекор.
Хорошо играл Петруха –
Словно не было беды,
Словно не рыдал намедни
Над могилою жены.
…Самогон блестел сивушно.
Не закусывая, пил…
Эх, трехрядка… эх, зазноба!
Кто там музыку просил?
Н-на тебе – иди по кругу!
Н-на тебе – верти хвостом!
Н-на тебе – бутылку в губы,
Чтоб скорее стать скотом!
Только не берет, зараза…
Выйдешь в вечер все равно
И посмотришь вверх однажды –
А на небе никого!
Слишком громко, Петя, плачешь, –
Соболезнует сосед…
Посмотри, как мир прекрасен…
Что ж с того, что жинки нет?
Но на плечи вдруг положит
Кто-то теплую ладонь…
Кто-то тихо-тихо скажет:
Их не слушай, просто пой.

«Я много посвящений написал, слов не жалел – других согреть старался…»
Да, посвящений у Сергея много – и поэтических, и прозаических (которые все равно – стихотворения в прозе). Собратьям-литераторам, наставникам, давним друзьям… Фильдрус Камалов, Владимир Зименко, Константин Курносенков, Александр Фитц, Павел Шуф, Рудольф Баринский, Михаил Гар!.. Цвет русской литературы и публицистики Узбекистана многих десятилетий. А еще – коллеги, с которыми когда-то работал на Республиканском радио. А еще – одноклассники и однокурсники. Любимые некогда женщины. Нынешние добрые знакомые и случайные, на короткое время, попутчики… Все, все живут в бездонной памяти поэта Гордина, каждому из тех, с кем хоть однажды пересекся по судьбе, находится место в его сердце.
В каждом дворе – по сирени,
Кисти – как гроздь винограда.
Буйство весенних растений,
Горечь осеннего взгляда.
Руки с пергаментной кожей,
Глаз в склеротической сеточке…
Бабушка ищет ребенка –
Где же ты бегаешь, деточка?
Смотрит и видит, как в озере, –
Два отражения рядышком…
Господи, кто эта девочка?
Господи, где эта бабушка?
Это – любимой Рэмочке, Римме Николаевне Волковой, легенде узбекистанской журналистики, – человеку, бесконечно много значившему для Сережи. Их необыкновенная, нежнейшая дружба послужила рождению многих чудесных стихотворений…
Оживают в строчках поэта звуки, образы, запахи прошедших дней, воскрешая память и душу, но главное – возникают снова и снова лица. Много прекрасных лиц – и тех, кто ушел, и тех, в ком, к счастью, доселе воплощается духовный облик нашего города.
Этой все еще не утраченной духовностью Ташкент во многом обязан и таким людям, как предки Сергея: священники, врачи, офицеры, инженеры, строившие в Узбекистане железную дорогу. В нашем крае они, начиная с позапрошлого века, оказались разными путями, – чтобы честно, как подобает истинным интеллигентам, работать для новой родины, составляя ее соль и совесть. Только вот фамилия деда, родом из Днепропетровска, учившегося в Швейцарии на врача, в Ташкенте позднее славившегося своим даром диагноста, до революции была не Гордин – Гордон. Как случилось, что изменилась буква? Принятая в семье версия – ошибка писаря. А на деле всё еще проще: «Так скрывались в то время от преследований». В семье, где дед и отец Сергея, чье детство прошло в Латвии, говорили между собой по-немецки, такая «конспирация» вполне понятна. И все же она не спасла: подросток из Риги, оказавшийся в Узбекистане перед самой войной, в шестнадцать (!) лет без всякой вины попал под репрессии. Много лет спустя Сережа прочитает в архиве Министерства обороны, в представлении к одному из военных орденов отца, слово: «искупил»… А что «искупала» мама – врач-невропатолог, выезжавшая в Афганистан для консультаций нашим раненым солдатам?..
Безжалостно время… Но мы-то – не будем.
Мы черные метки, конечно, забудем,
И белые струпья, и пролежней ямы…
Какая ж ты юная в памяти, мама.
Останется ласка прикосновений…
А поздняя осень, а длинные тени,
А то, что бывает невыносимо
Для любящей дочери или сына, –
Сотрется из памяти тряпочкой влажной.
Мы все эту боль пережили однажды.
Рука ее сухонько сверху лежала…
Я очень люблю тебя,
Мамочка… мама…
Евтушенко однажды сравнил творчество разных поэтов со звучанием того или иного музыкального инструмента. В стихах Вознесенского он (кажется, не без ехидства) расслышал саксофонные ноты, в строчках Окуджавы для него звучит, как легко догадаться, гитарный перебор… Пушкин – это, конечно, целый оркестр. А какой инструмент, подумалось, был бы ближе всего стихам Гордина? Наверно, жалейка, с ее однотонным негромким плачем. Или нет, скорее ее армянский «родственник» – дудук.
«…Я заметил, что инструмент у этого замечательного дудукиста, которого мы с вами слушали тогда на кладбище, – какой-то настоящий, не похожий на концертный-покупной, а такой трогательно древний, как будто это первый дудук на земле, а сам маэстро – первый музыкант на нашей планете… Как обидно, что мы не записали тогда музыку этого абсолютно божьего человека…»
Ну вот главное и прозвучало:
Настоящий.
Трогательный.
Божий.
Эти слова об одном старом музыканте Сережа, не догадываясь об этом, сказал о самом себе. Наверно, иных определений и не может быть для человека, выбравшего для себя (впрочем, скорее всего, и выбора-то для него не было) – стать хранителем «уходящей натуры» в стремительно меняющемся городе. Городе, безоглядно отметающем, стирающем из своей истории вековые чинары и скромную «черешенку у палисада»… И лишь в стихах поэта Гордина по-прежнему льется «особенный свет на то, чего уже нет», – и потому оно – есть. Угадываются сквозь слепящую громаду Акай-Сити легкие очертания тенистых улочек Урицкого и Малясова. В мареве проспекта Навои, напротив Дворца искусств, вдруг проступает призрачная витрина казавшегося вечным букинистического магазина «с совой». Стоит «на бывшей улице Жуковской театр, что рядом был до сноса». Вечно сквозит солнце сквозь ветви срубленных деревьев на Сквере. Оживает старое кино на экране летнего кинотеатра в парке Тельмана. Неувядаемо красивы длинноногие девочки из радиоредакции конца семидесятых. В уничтоженной «Пельменной»-стекляшке напротив бывшего музея Ленина по-прежнему собираются компании журналистов из газетного корпуса. Греются на лавочке у подъезда старики, что «в заначке много лет хранят какие-то гроши», и все еще приносит к автобусной остановке цветы женщина, когда-то жившая по соседству…
Кому же и помнить и носить все это «в собственных венах», как не Сергею Гордину – совсем не молодому, далеко не пышущему здоровьем, но упрямому и нежному Хранителю Ташкента не в первом поколении?
Стишок за стишком,
Шажок за шажком –
Вернуться б опять
В потерянный дом.
Вернуться туда,
Где тебя ждут,
Где будет тепло
И будет уют.
Где столько вещей
Из старых времен,
Где вечером все
Сидят за столом.
И льется на нас
Особенный свет,
Он льется на то,
Чего уже нет…


…«Письма… Сколько я их написал в юности – в никуда, никому, а еще чаще – не тому. А потом, постепенно, перестал это делать… Я не перестал писать, нет. Я не могу перестать писать. Думаю, что это органика. Тысячи страниц, самому себе… Я перестал их отправлять. Некому. А написать вам – решился. Ведь, что бы там ни говорили, любое произведение может считаться состоявшимся, когда его прочтут и примут. Даже не редакторы, нет, – просто люди, просто человек. Подсознательно адресуешься именно к нему, к этому человеку. Так получилось, что сегодня издание книги, публикация в печати стали сами по себе важными. Люди теперь говорят не о том, что ты написал, а сколько книг напечатал. Хоть за обложками книг часто – не раскрытые страницы, которые никогда не приласкал ничей взгляд, не тронула ничья рука… Вспомнилось старое, самое страшное оскорбление у древних римлян, читал, кажется, у Апулея, – «девственница, которую никто не пожелал». Так и для литературного произведения бесконечно важно, чтобы оно было прочитано, – это, может быть, важнее, чем где-то напечатано. И как в капле воды – весь океан, так и в одном читателе может быть признание всего человечества. И ищешь этого человека. Всегда ищешь человека. И самое главное в жизни – этого, своего, человека найти».
Щемящее, беззащитное в своей откровенности признание поэта, чьи стихи очень редко публикуются на страницах солидных изданий, все больше в Фейсбуке, а творческие вечера – перечесть по пальцам одной руки. И до сих пор – ни одного изданного сборника…
…Сам по себе. И в стороне,
Один. Чужие там не ходят.
Горит он, как свеча во тьме,
И очень важное находит:
Ту правду о прошедших днях,
Которую забыть стремились
Все те, которые сейчас
В писателей преобразились…
О другом человеке. И опять – о самом себе.
…А знаете, я поняла, почему поэзию Сергея воспринимаю не совсем как стихи. Ну да, это скорее, – полностью в традициях русской исповедальной лирики, – интимный дневник. Не предполагающий заботы о форме, совершенства образов, отточенности и даже точности рифм. А просто – адресующийся прямо в сердце.
Так же, как в его собственном сердце, – такой уж выпал Сереже крест, – однажды войдя, навсегда поселилось Утраченное время.
…И повторится ли когда
Вот эта лютая зима,
Дымок на дальней стороне,
Звезда, горящая во тьме,
И тихий поезда гудок,
И ощущенье: выше – Бог?..
Да, повторится.
Не для нас.
А нам даровано сейчас
В последней этой красоте
Увидеть всё, что на земле:
И белый дым, и старый дом,
И черный тополь за углом.
…Ташкент оплакал ушедших любимых поэтов – Александра Файнберга, Михаила Гара. Проводил в другие края Аллу Широнину, Михаила Книжника, Вадима Муратханова, Алину Дадаеву, Вику Осадченко. Заменить их здесь сегодня некем. Но остается со своим городом его Белый рыцарь – Сергей Гордин. Остается, никого не заменяя. Ему выпала другая миссия – почти непосильная, но для него самого непреложная: помнить. И хранить свой – наш – город.


Лейла ШАХНАЗАРОВА.
Фото из социальных сетей.
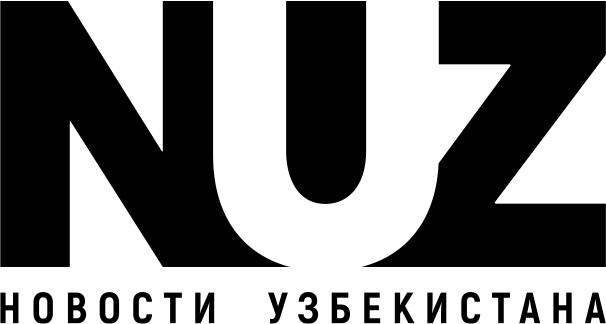

Спасибо за память и добрую душу.
Спасибо за статью. Лучше о Сергее Гордине и не скажешь!