Скажу сразу: это ни в какой мере не рецензии на прочитанное и даже не аннотации, которые все же призваны дать читателю хотя бы в двух словах представление о книге, ее содержании и авторе. Собранные здесь заметки – именно впечатления, возникавшие у меня в процессе чтения: довольно разрозненные, даже почти мимолетные, иногда всего в одном предложении, – но порой касающиеся и большего – тех или иных литературных явлений в целом. Кстати, далеко не все из упомянутых здесь книг я рекомендую к прочтению – в ряде случаев как раз наоборот. Но поскольку это заметки все-таки читателя достаточно искушенного, – может быть, они помогут кому-то сориентироваться в книжном мире прошлого и современности.
* * *
«Ни у греков, ни у римлян не было специального названия для народов с иной верой» (Якоб Гримм, «Введение к «Германской мифологии»».
Какая короткая, простая фраза – и КАКАЯ культура за ней!..
«Тараканы» Ильи Варшавского
«В начале 60-х в Ленинград приехал Станислав Лем. Ему дали прочитать папку тогда еще не опубликованных рассказов Ильи Иосифовича. На другой день он сказал: «Никогда не думал, что в одной папке может уместиться вся западная фантастика».
Это – из воспоминаний Бориса Стругацкого об Илье Варшавском. Человеке, написавшем за свою жизнь всего несколько десятков коротких рассказов. И все же его считают учителем и мэтром многие из тех, кто ныне числится в классиках советской фантастики.
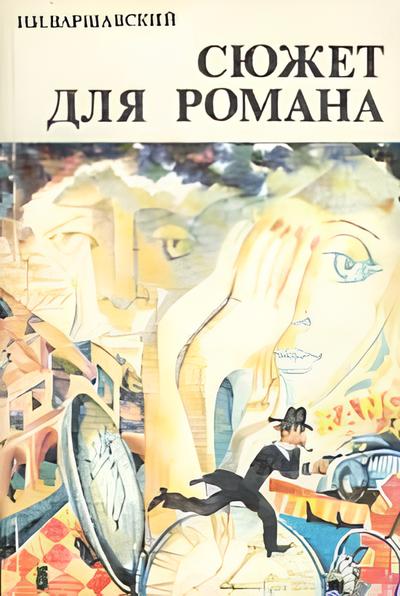
А еще он был всезнающим, мудрым и ироничным провидцем и пророком. Не знаю в литературе более лаконичной, яркой и страшной картины заката цивилизации, чем в коротком рассказе Ильи Варшавского «Тараканы» (по необъяснимой для меня причине – совершенно недооцененном). Фабула – точная и острая, как скальпель. Выверенность не то что каждого абзаца – каждого слова! – безупречная, мАстерская. Куда там знаменитым антиутопиям, с их затянутостью и достаточно прозрачной назидательностью. Сравнить их с «Тараканами» – и не нужно более убедительного доказательства преимущества талантливого рассказа перед талантливым романом. И что еще не перестает меня изумлять в творчестве Варшавского: поразительная внутренняя свобода и – вдумайтесь, это в 60-е, 70-е годы! – полное отсутствие совковости.
Девушка в черном платье с фиолетовыми пятнышками
Говорят, что иные народы в разные времена истории предстают разными своими ликами. Немцы в XVII и XVIII веках дали миру великих композиторов и музыкантов. В XIX столетии это была нация философов. ХХ век для Германии – эпоха воинов и войн. Сейчас это лучшие в мире инженеры…
Маленьким зеркалом, в котором своеобразно отразился «сумрачный германский гений» – и одновременно словно предсказаны многие будущие трагедии этой страны, представляются мне некоторые рассказы немецких романтиков первой половины позапрошлого века. Таков провидческий, неуловимо изменчивый, загадочный и мастерский в своей обманчивой простоте рассказ Людвига Тика «Белокурый Экберт».
Или вот начало рассказа его младших современников, писавших под общим именем Эркман-Шатриан, «Гостиница трех повешенных», от которого у меня сладко замирает сердце:
«В то время я был беден, как церковная крыса, и нашел себе приют на чердаке старого дома на улице Миннезингеров…»
Старая Европа, мрачноватая интрига, полумистический-полудетективный сюжет… Рассказ этот словно вынырнул из мрачных немецких преданий, стилизаций Гауфа, Гофмана, Готфрида Келлера…
Однако другой писатель, позаимствовавший сюжет Эркмана-Шатриана и доведший его до совершенства, увидел в нем нечто иное. Написанный в 1908 году рассказ Эверса «Паук» знаменует собой конец последнего века могущества Европы, в предчувствии вселенской катастрофы перекликаясь с мрачнейшими фантазиями Майринка.
Ганса Гейнца Эверса, автора «Паука», «Альрауне», сценария «Пражского студента», называли немецким Говардом Лавкрафтом, Фридрихом Мурнау в литературе; сам он считал себя преемником Эдгара По и Оскара Уайльда… Многовато эпитетов, сравнений, имен для характеристики писателя. Писателя, очень ярко, на мой взгляд, представляющего немецкий экспрессионизм. И, добавлю, почти забытого сегодня. Почему? Не хватило таланта? Сыграл свою роль запрет на творчество писателя-гомосексуалиста в фашистской Германии? Или, напротив, – симпатии Эверса к национал-социализму, аукнувшиеся ему после войны?
Так или иначе, но его «Паук», при всем женоненавистничестве, остается маленьким шедевром, сохраняющим даже при многократном перечитывании свою «обманку», недосказанность, тайну…
Если бы пришлось иллюстрировать этот рассказ Эверса – выбрала бы рисунки Бердслея (обязательно – «Саломею»). Так удивительно, на мой взгляд, совпадает мироощущение двух художников – во всяком случае в отношении к женщинам…
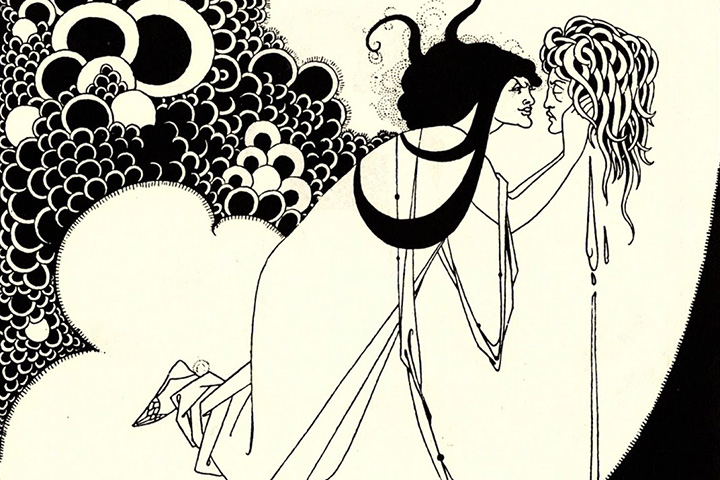
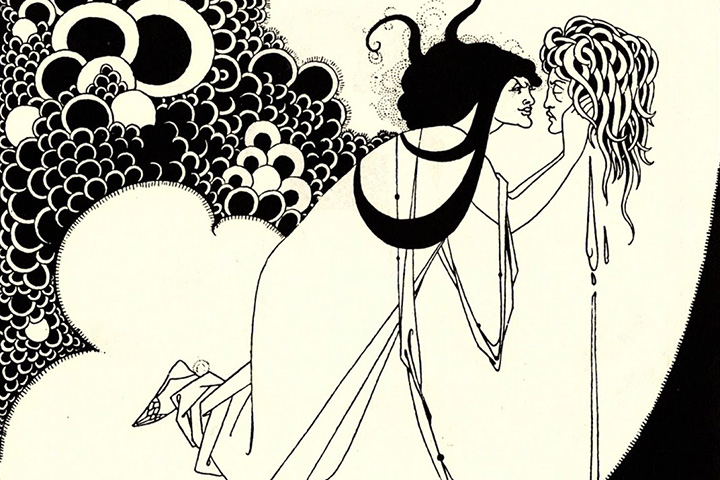
ПАВИЧ И РУШДИ
«Мужчина ощущает мир вне самого себя, а женщина носит вселенную внутри себя. Если хотите, это образ распада времени, которое делится на коллективное мужское и индивидуальное женское время».
Это – Милорад Павич, «Хазарский словарь».
Следующим же после этой книги чтением для меня стала «Флорентийская чародейка» Салмана Рушди. Вроде бы и занимательно, и изощренно (тут тебе и Великие Моголы, и династия Медичи, и Маккиавелли, и роковая любовь), но все время – ощущение вторичности, умозрительности, искусственности. Порождение талантливого интеллектуала, но – эпигона. Чьего? Для кого как, а у меня при чтении – постоянное полуосознанное присутствие в памяти другой книги. Да, того самого «Хазарского словаря». Соотношение этих двух произведений – как сформулированное Вересаевым соотношение «Илиады» и «Энеиды»:
«Гомер поет, потому что не может не петь, потому что горит душа и пламенными языками рвется наружу…
Когда читаю «Энеиду» Вергилия, чувствую перед собою с огромным мастерством рассказанную сказочку о приключениях выдуманных героев, о действиях богов, в которых ни сам Вергилий не верит, ни мы с вами…»
(Кстати, и мастерства запредельного у Рушди не заметила.)
В общем, дочитала с горем пополам – только потому, что не люблю бросать книги недочитанными.
«ДИНКА»
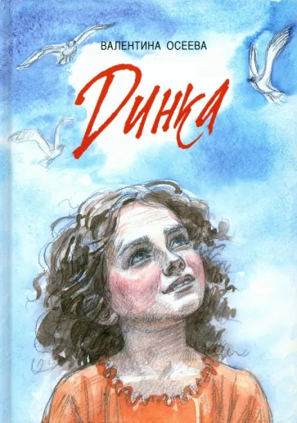
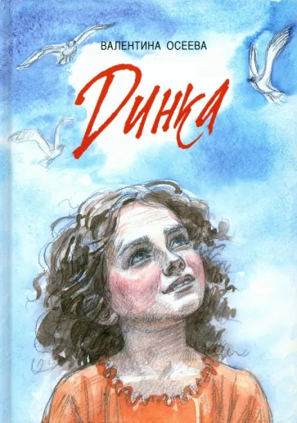
Помните эту книжку Валентины Осеевой – когда-то наше любимое детское чтение? Начала перечитывать: в первой главе дворник из города приезжает ночью тайком на дачу к героине, матери Динки, чтобы предупредить, что ею и ее скрывающимся мужем-революционером интересовался какой-то подозрительный тип, явно шпик.
Задумалась. Все без исключения дворники в крупных городах, особенно в то время, после революции 1905 года, работали на охранку, следить за жильцами и доносить обо всех неблагонадежных входило в их прямые обязанности. А тут, рискуя службой, а то и чем похлеще, за свой счет (отказался от денег, которые совала ему за проезд Марина!) отправился глубокой ночью в деревню только чтобы предупредить хорошую женщину, которая ему ни кума, ни сватья? Как поверить в это?
Да все просто. Повесть о дореволюционных событиях писалась в советское время. И нужно, просто необходимо было вывести образцового «простого человека из народа», глубоко сочувствующего революции.
* * *
Аудиокниги?.. Слушала однажды не кого-нибудь – Аллу Демидову, читавшую бунинский «Чистый понедельник». И содрогнулась, услышав, как она дважды (!) – неправильно произнесла «Богородица Троеручница» – вместо «Троеручица». Может, как раз с тех пор аудиочтение не для меня.
Лейла ШАХНАЗАРОВА.
Продолжение следует.


Спасибо за такой профессиональный обзор.