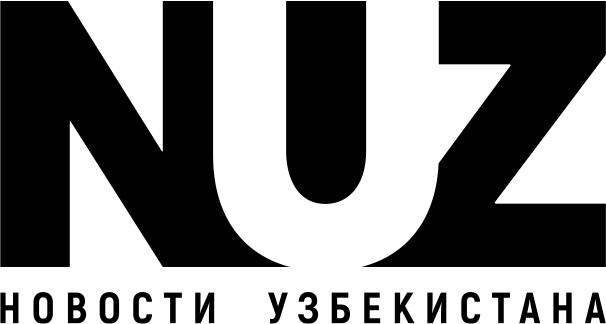Когда-то давно в знаменитом на весь Восток городе Ширазе родился мальчик. Справедливости ради, в этом блистательном и утонченном городе каждый год рождалось достаточно много мальчиков, так что появление на свет еще одного прошло незамеченным. Никто не удосужился запомнить, когда это случилось – то ли в 1325 году по григорианскому летоисчислению, то ли годом позже.
Мальчика назвали Шамсиддин, что в переводе означает «солнце веры». Было у него и второе имя, не менее благочестивое – Мухаммад. Увы, благочестие не равно благоденствию. Мальчик рано осиротел, и так же рано был вынужден много и тяжело работать.
Со временем все мальчики взрослеют и становятся юношами. Все юноши влюбляются, и очень многие пытаются сочинять по этому поводу стихи. Эта участь не миновала Шамсиддина Мухаммада. Говорят, он влюбился в красавицу Шахнабат – вроде бы она даже существовала в действительности, а не только в легендах, – и был ею отвергнут. Он начал сочинять стихи и испытал на себе, как мы сказали бы сейчас, всю прелесть критики. Критика исходила из кружка ширазских поэтов, которые своим пренебрежением к молодому мечтателю еще раз подтвердили скучный факт – Золотого века позади нас не было.
Слабых испытания губят, сильных укрепляют. Несмотря на лишения и беды, Шамсиддин Мухаммад не пал духом. Он сумел получить образование, овладел богословской премудростью и благодаря уникальной памяти мог наизусть читать Коран. То есть, он стал хафизом.
А еще он стал суфием, говорящим с людьми на языке мистической тайны.
А еще он стал Хафизом. Самым прославленным стихотворцем Востока. Символом и эталоном поэзии. Человеком, говорящим с миром на языке тайны поэтической. И этот язык был принят и понят множеством самых разных людей, в тайну отнюдь не посвященных. Ибо ясность и простота и есть величайшая тайна для слагающего и внимающего.
Газель Хафиза заставила сурового деспота Аурангзеба, жившего уже на исходе XVII века, отменить приказ о массовой казни. Газели Хафиза потрясли Гете, а, согласимся, личности такого масштаба не падают в обморок от любого услышанного четверостишия. На Востоке же Хафиз уже много веков – весы, измеряющие талант, вкус и глубину чувств и мыслей. Немногие чувствуют себя одинаково непринужденно в рыбачьих штанах и королевской мантии. Хафиз принадлежал к немногим. Знатоки поэзии наслаждались скрытым смыслом и изысканными образами его газелей и рубаи, а землепашцы, ремесленный люд, торговцы распевали их как популярные любовные песни:
«Дам тюрчанке из Шираза
Самарканд, а если надо –
Бухару! А в благодарность
жажду родинки и взгляда».
Легенда гласит, что Тимур, войдя в Шираз, призвал Хафиза и грозно сказал ему: «Я покорил весь мир, чтобы прославить Бухару и Самарканд, а ты смеешь бросать их какой-то тюрчанке за ее ничтожную родинку!» – «Погляди, шах, к чему привела меня моя расточительность», – сказал в ответ Хафиз, показав на свое дервишеское рубище. Тимур рассмеялся, и весь гнев его пропал, как три века спустя от волшебства строк Хафиза пройдет гнев Аурангзеба.
Творивший в эпоху канона, Хафиз никогда от него не уклонялся. Он не утверждал, подобно Шекспиру, что «тело пахнет так, как пахнет тело». Лик его поэтической возлюбленной добросовестно нежен, стан хрупок. «Тюльпаны щек», «мускус кудрей», благоуханное дыхание… Но что-то в этой канонической красавице никак не желает вписываться в канон.
«Тоска в изгибе губ»… Красавица приходит к поэту в полурасстегнутых шелках, ибо несовместимы истина и мелочный этикет, и внезапно покидает город, никого о том не известив, – человек принадлежит лишь себе самому, и счастлив тот, кто свободен от предрассудков не только ненависти, но и любви.
«Ушла любимая, ушла,
не известила нас,
Ушла из города в тот час,
Когда заря творит намаз».
И уходит поэт вслед за своей любовью, и становится вечным путником на дорогах мира. Странствует, встречая и примечая ему одному открытые образы: ручеек, в котором «безысходная тоска разведена»; долину в качании роз и платанов; гулкие волны морские в безлунной ночи; галантный весенний ветерок и завистливую лужайку. Сколько стишкотворцев, втайне изнывавших от скудости таланта, отдали бы все, что имели, за один лишь из этих образов, и скольких слушателей и читателей они, эти образы, заставляли взглянуть на мир так, будто видят его впервые.
И вот уже море полудня заносит отмель песками, а странник все продолжает путь.
«Где правоверных путь, где нечестивых путь?
О, где же?
Где на один вступить, с другого где свернуть?
О, где же?»
В пути возникает убеждение:
«Среди всего, что сотворил
из ничего Творец миров,
Мгновенье есть; в чем суть его –
Никто доселе не постиг!»
Остановки на этом пути – дни радости, ночи любви, пирушка беззаботных и зов с вышины звезд, рождающий тоску ненайденного, необретенного.
«Одиночество мое, как уйти мне от тоски?» Наверное, и во времена Хафиза существовали рецепты, как быть позитивным и успешным, только назывались они по-другому. А безумцы, странники и поэты – что часто одно и то же – лишь смеялись этим самодовольным правилам «счастья». Вот как объяснить, что счастье не равнозначно «позитиву»? Вот как объяснить, что такое «любовь в разлуке»? Как рассказать, что душу можно убить, но нельзя выдрессировать.
«Эй, душа, ты меня бы спросила хоть раз, что мне нужно». Ведем ли разговор с душой? Знаем ли, что нужно? Может, и всего-то дело в том, что
«Я отшельник. До игрищ
и зрелищ здесь дела нет мне.
До вселенной всей, если
твой переулок есть, дела нет мне».
С кем и о ком этот разговор? О женщине – с Богом? О себе – с женщиной? О Боге – в себе самом? Ответов так много, что ответа, по сути, нет. Поэзия не для того, чтобы давать ответы. И не применимы к Хафизу никакие определения. Все они кажутся выцветшими, стертыми. А потому
«О сиянье далекой чигильской свечи – лучше молчи.
О мученьях моих – как они горячи – лучше молчи.
Нет со мной друзей, перед кем я открою тайну свою.
О сердечной тоске моей лучше молчи – лучше молчи».
Александра Спиридонова